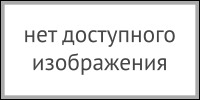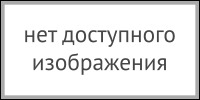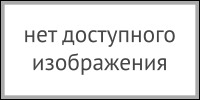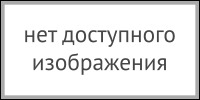Я ВСПОМНИЛ ПРО РУССКУЮ
ДОЛЮ...
С.Ю. Куняев
Тысяча лет нашей судьбе - Православной вере,
русской государственности и, говоря округленно,
литературе. Начиная со "Слова о Законе и
благодати" митрополита Илариона и "Слова о
полку Игореве...", русский писатель, достигая
высот образности и одухотворенности, оставался
публицистом, учителем, государственником.
К исходу века закончил публикацию своих
воспоминаний "Поэзия. Судьба. Россия"
Станислав Куняев. Они охватывают всю вторую
половину XX века - от студенческой поры в МГУ до
нынешних литературных и политических схваток.
Сей грандиозный, честный и глубокий труд
опубликован в 14 (!) номерах журнала "Наш
современник" и являет собой духовной подвиг
поэта.
Вот лишь несколько фрагментов - временных и
болевых узлов эпохи.
Предчувствие
"После 1982 года мною все чаще и чаще
овладевали предчувствия какой-то грядущей
катастрофы, должной случиться со страной и со
всеми нами... Я с ужасом чувствовал, что устои
нашего советского государства шатаются, слышал
подземные толчки, глухой пока еще скрежет
несущих конструкций и мучительно соображал, что
делать, как и чем воспрепятствовать разрушению
жизни. Скорее всего, наше государство, наша
идеология, думал я, возникли на двух опорах,
покоятся на двух полюсах - на еврейской, мощно
организованной воле к власти и на русском
тяготении к всемирной справедливости. В самом
начале обе силы делали одно дело - разрушали
старую тысячелетнюю Россию, но со временем их
векторы расходились все дальше и дальше друг от
друга... Обе силы присутствуют в глубине жизни и
сегодня. Но противоречия между ними нарастают,
напряжения накапливаются, и землетрясения нам не
миновать...
О дружбе и приспособленчестве
В ноябре 1982 года Станиславу Юрьевичу Куняеву
исполнилось 50 лет. Он пригласил на юбилейный
вечер Игоря Шкляревского, с которым дружил 20 лет.
Но ведь Шкляревский знал, что у друга-покровителя
уже сложилась "определенная" репутация.
Вечером я позвонил ему и сказал, что очень прошу в
конце ноября быть в Москве и выступить на вечере.
В ответ вдруг услышал нечто странное:
- Друг, давай встретимся завтра, мне надо об этом
поговорить с тобой серьезно.
Мы встретились на улице Воровского, возле
монумента Льву Николаевичу Толстому, Игорь
щелкнул зажигалкой, затянулся и сделал какое-то
почти физическое усилие, от которого желваки
напряглись на его лице:
- Знаешь, я обдумал твое предложение. Я не буду
выступать на твоем вечере. Но в трудную минуту я
всегда помогу тебе. Только тайно, а не открыто.
Я изумленно поглядел ему в глаза, как бы желая
удостовериться, что это - не обмолвка, хотел
сказать, что двадцать лет все-таки так легко из
жизни не вычеркнешь, что я всегда помогал ему
открыто, а порой демонстративно, но вдруг понял,
что все напрасно, повернулся и пошел к железным
воротам, оставив его наедине с Толстым...
...Когда он написал свои лучшие стихи, которые,
кроме меня, может быть, по-настоящему не оценил
никто, когда увидел, что к нему не пришла слава, на
крыльях которой можно было летать, держаться на
воздушных потоках, жить полной жизнью, то начал
склонять голову перед силой обстоятельств. Это
мало кто заметил, разве что я, да еще покойный
Передреев. Он начал осторожно и скрытно
приспосабливаться к жизни, не то чтобы делать
карьеру, нет. Для такого пути Игорь был слишком
умен. Нет, он стал завязывать связи с нужными
людьми такого склада и положения, которых в
юности либо не замечал, либо при встрече с ними
смотрел сквозь них...
А потом вышла книжица Шкляревского "Поэзия -
львица с гривой", где среди размышлений о
"Слове о полку Игореве", о Лермонтове и
Блоке, о Пушкине и Есинине были умело
"вмонтированы" главы, посвященные переводам
жены первого секретаря Союза писателей РСФСР
Михалкова Натальи Кончаловской, эссе о
творчестве последнего заведующего Отделом
культуры ЦК КПСС крохотного стихотворца Юрия
Воронова и, что уж совсем было прискорбно для
меня - "Письмо Сергею Бобкову" - маленькому,
ныне прочно забытому модернисту 70-80-х годов.
Плохо было то, что Сергей Бобков был сыном
известного начальника из КГБ Филиппа Бобкова,
ведавшего "работой с творческой
интеллигенцией", скверно было то, что за дружбу
с его сыном в те годы шла борьба между русскими и
еврейскими литературными кругами, между
Анатолием Ивановым и Михаилом Шатровым, Олегом
Шестинским и Евгением Сидоровым. Все писали о
Бобкове-сыне. Но хуже всего было то, что так, как
написал Шкляревский Игорь, не додумался написать
никто:
"Прочел твою "Судьбу..." Пронзительные и
точные стихи... В твоей книге есть широко
раскинутый невод... И не сухой! В этом ты - Сергей
Бобков - и от города, и от поля, и с князем Игорем, и
с Голиафом..."
Это был скверный путь к фортуне, к квартирам,
государственным премиям, привилегированным
заграничным командировкам. Борьба за поэзию и
чистую славу заканчивалась.
Сейчас Игорь, как и все мы, доживает жизнь. Тихо,
осторожно, незаметно. Славы уже не будет. Успеха
уже не нужно. Деньги есть. Славу заменили премии,
время от времени втихаря выдаваемые в долларах
демократическими фондами, выросшими как опухоли
на развалинах жизни. Детдомовская бедность и
молодое высокое честолюбие давно в прошлом.
Словом, он добился того, чего хотел. "Тот, кто в
детстве настрадался, - в старости свое
возьмет".
О государственности
"Многие функционеры идеологической и
литературной жизни 60-80-х годов, которые всеми
средствами боролись с нами в те времена, сегодня
издали свои воспоминания. Читаешь Александра
Борщаговского, Раису Лерт, Раису Орлову-Копелеву,
Льва Копелева, Анатолия Рыбакова, Льва Разгона,
Михаила Козакова (всех не перечислить, имя им -
легион), и у всех, когда речь заходит о нашем
противостоянии, одно и то же: "антисемитизм,
антисемитизм, антисемитизм".
Однако, восстанавливая в памяти атмосферу тех
лет, вспоминая наши разговоры о Даниеле и
Синявском, о Бродском, о Галиче, о
"Метрополе", о Тарсисе, о бегстве Анатолия
Кузнецова за рубеж, могу положа руку на сердце
сказать: главная наша забота была не о том, кто из
диссидентов еврей, а кто нет... Мы с той же
недоверчивостью и отчужденностью относились к
диссидентам-неевреям: Виктору Некрасову,
Владимиру Максимову, Андрею Синявскому,
Александру Зиновьеву, Эдуарду Лимонову.
Русские писатели отстранились от диссидентов и
осуждали их лишь потому, что чувствовали: воля и
усилия этих незаурядных людей разрушают наше
государство и нашу жизнь. Мы были стихийными,
интуитивными государственниками, еще не
читавшими Ивана Солоневича и Ивана Ильина, но уже
тогда осознавшими, какие страшные жертвы понес
русский народ за всю историю, и особенно в XX веке,
строя и защищая свое государство; и как бы
предчувствуя кровавый хаос, всегда возникающий
на русской земле, когда рушится государство, как
могли, боролись с вольными и невольными его
разрушителями. И не наша вина, что авангард
разрушителей состоял в основном из евреев,
называвших себя борцами за права человека,
социалистами с человеческим лицом,
интернационалистами, демократами, либералами,
рыночниками и т.д. Мы уже знали, что, когда им
нужно защитить их общее дело, тогда их
общественно-политические разногласия как по
команде забываются и евреи-коммунисты вдруг
становятся сионистами, интернационалисты -
еврейскими националистами, радетели
"советской общности людей" эмигрируют в
Израиль, надевают ермолку и ползут к Стене
плача.
Сегодня им скрывать нечего, и они во множестве
своих мемуаров откровенно пишут о том, какими
чувствами и мыслями жил в 60-80-е годы их круг,
избравший своим гимном песенку Окуджавы
"Возьмемся за руки, друзья...".
Нет, молодец Александр Куприн. Хорошо он знал их
племя. Как эта история этих людей, их отношение к
России похожи на историю, рассказанную Куприным
в знаменитом и скандальном его письме к Ф.
Батюшкову, написанном аж в 1909 году: "Один
парикмахер стриг господина и вдруг, обкорнав ему
полголовы, сказал "извините", побежал в угол
мастерской и стал ссать на обои, и когда его
клиент окоченел от изумления, Фигаро спокойно
объяснил: "Ничего-с. Все равно завтра
переезжаем-с".
Таким цирюльником во всех веках и во всех народах
был жид, со своим грядущим Сионом...". Вот эти
слова "все равно завтра переезжаем-с"
глубоко запали мне в память. Лев Збарский, Лев
Копелев, Василий Аксенов, Анатолий Гладилин - все
они в определенный момент начинали вести себя,
как цирюльник из купринского письма... Как будто
из какого-то тайного центра прозвучал тайный
приказ, и все они, как муравьи, послушно
переменили взгляды, убеждения, чувства.
Мы так не умели и не могли. В этой способности
коллективного лицедейского перевоплощения в
зависимости от исторических обстоятельств была
циничная сила людей подобного склада. Ведь почти
все они дети пламенных революционеров,
пропагандистов социализма, секретарей обкомов,
певцов ГУЛАГа.
Отец Михаила Козакова, так же как отцы Натана
Эйдельмана или Юрия Нагибина, славил
Беломорканал, отец Льва Збарского бальзамировал
Ленина, сам Михаил Козаков с необыкновенной
страстностью и талантом всю жизнь играл
Дзержинского... Э! Да что говорить! Плохо мы их
знали в те годы...
Но, к сожалению, и с русскими националистами
вроде Леонида Бородина и Владимира Осипова мы не
могли окончательно породниться, потому что их
"русское диссидентство" по-своему тоже было
разрушительным, а мы стремились к другому: в
рамках государства, не разрушая его основ,
эволюционным путем изменить положение русского
человека и русской культуры к лучшему, хоть
как-то ограничить влияние еврейского
политического и культурного "лобби" на нашу
жизнь. Нам казалось, что шансы для такого
развития событий у истории есть... И они были.
Разрушать же государство по рецептам Бородина,
Солженицына, Осипова, Вагина с розовой надеждой,
что власть после разрушения перейдет в руки
благородных русских националистов? Нет, на это мы
не могли делать ставку. Слишком высока была цена,
которую пришлось бы заплатить в случае
поражения. Кстати, именно такую цену за
совершившуюся антисоветскую авантюру наше
общество и наш народ и платит сегодня".
А я остаюся с тобой
Перечитываю стихи, письма, дневники и начинаю
подозревать, что я счастливый человек, потому что
всегда был свободен и независим как поэт. Потому
что свободу я понимал не как политическое
разгильдяйство и не как кухонный набор прав
человека, а как меру полноты бытия, полноты
ответственности, в коей я сам жил и понимал свое
время.
Стихия жизни для меня была глубже, бесконечнее,
прельстительней любого самоутверждения, любой
идеологии, любой политики.
...Помню, как в один из послевоенных дней, когда
мне исполнилось уже лет четырнадцать-пятнадцать,
я вдруг услышал впервые песню на слова Михаила
Исаковского "Летят перелетные птицы..." Она
поразила меня, я запомнил ее сразу, уходя в школу -
а дорога тянулась чуть ли не через всю Калугу, -
пел ее про себя, повторял, бормотал. Отчетливо
помню, как в один из осенних вечеров, глядя в
холодное небо над Окой, в котором кружились перед
отлетом на юг грачиные стаи, я вдруг выдохнул в
осеннее пространство: "Желанья свои и надежды
связал я навеки с тобой, с твоею суровой и ясной, с
твоею завидной судьбой". Да с таким чувством
выдохнул, что горло перехватило и слезы на глаза
навернулись. |